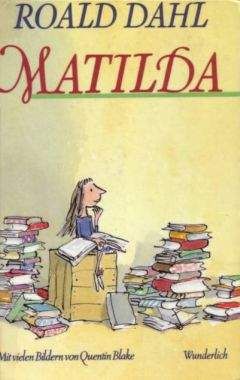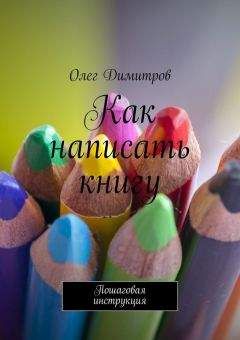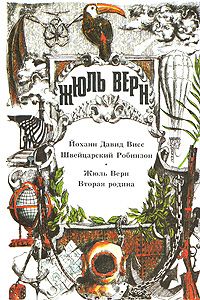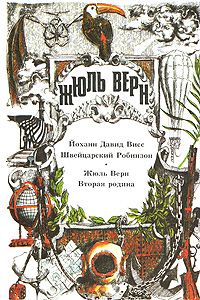Сборник статей - Жизнь языка: Памяти М. В. Панова
Возможно, работа в школе определила и особенности Панова как вузовского преподавателя. Свои первые лекционные курсы Михаил Викторович начал читать в Московском городском педагогическом институте им. В. П. Потемкина. До него «Введение в языкознание» вел А. А. Реформатский. В институте это имя было овеяно легендой, о нем говорили с восхищением и страхом. Вспоминали, как трудно сдавать ему экзамены: одному ни за что «отлично» ставит, а другой все знал, все учил – и «неуд». Рассказывали, что кто-то только вошел, рассказал лингвистический анекдот – и сразу вышел с пятеркой, а кому-то он задал такой вопрос, на который даже в коридоре никто не смог ответить. Сам облик Реформатского совпадал с образом старинного профессора. Мы знали, что он дружит с Рихтером (за билетами на его концерты мы уже тогда простаивали сутками), и это чрезвычайно усиливало притяжение к нему. Но наша нулевая лингвистическая подготовка не позволила нам тогда в полной мере оценить великих учителей.
А ведь Мосгорпед собрал в своем скромном школьном здании в Гавриковом переулке (около станции метро «Красносельская») лучших лингвистов и литературоведов того времени. Здесь читали свои лекции Рубен Иванович Аванесов, Григорий Осипович Винокур, Владимир Николаевич Сидоров, Абрам Борисович Шапиро, Лидия Николаевна Шатерникова, Иван Афанасьевич Василенко, Андрей Чеславович Козаржевский, Сергей Михайлович Бонди, Виктор Давыдович Левин, Леонид Петрович Гроссман, Юрий Михайлович Кондратьев, Николай Иванович Балашов, Ольга Александровна Державина, Сергей Федорович Елеонскин, Евгений Борисович Тагер, Лидия Павловна Гедымин и другие замечательные преподаватели. Дух захватывает от простого перечисления имен этих ярких и прекрасных людей. Мы любили их и гордились ими. Годы учебы в МГПИ прошли в обстановке взаимной любви студентов и преподавателей. Никто не заставлял нас часами просиживать на кафедре, обсуждая, редактируя, рисуя очередной номер «Языковеда» – газеты, выпускаемой на факультете под руководством Михаила Викторовича. А Евгений Борисович Тагер, приобщивший нас к своим любимым поэтам Марине Цветаевой и Борису Пастернаку, водивший студентов на интересные доклады в Институт мировой литературы АН СССР, на выставки Р. Фалька, А. Матвеева, М. Шагала, импрессионистов, в Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина! Никто не заставлял его это делать. А на один из литературных вечеров в институт он пригласил И. Оренбурга. Почти на всех концертах Рихтера мы видели Е. Б. Тагера. Тогда еще преподавателей вузов направляли в рабочие коллективы проводить антирелигиозную пропаганду. Л. Н. Шатерникову послали на ЗИЛ (тогда ЗИС). Она так замечательно изложила содержание и особенности всех четырех Евангелий (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна), что рабочие очень заинтересовались. Начали заглядывать в церковь даже те, кто раньше об этом и не помышлял.
Все, что любили наши преподаватели, любили и мы. И эти интересы у большинства из нас остались на всю жизнь.
Читать лекции в таком институте, да еще после своего знаменитого предшественника и учителя, было для М. В. Панова, наверное, совсем не просто. С одной стороны, нельзя было опустить высоко поднятую планку, с другой – как теперь кажется, нужно было самый трудный предмет сделать самым понятным. Как в школе. Мы, выпускники 1959 года, были первыми слушателями лекции Михаила Викторовича. Ему было тогда 35 лет. Аудитория в 100 человек дышала одним дыханием, сидели как загипнотизированные. Все было не только интересно, но и абсолютно понятно. Самые трудные понятия фонологии, введенные А. А. Реформатским, были доведены до такой ясности, что на всю жизнь закрепились в памяти.
С первых же лекций вокруг Панова образовалось некое магнитное поле, сила которого увеличивалась с каждой лекцией.
Учебник Реформатского, казавшийся нашим предшественникам невообразимо трудным, становился не только понятным, но и глубоким, а его автор предстал перед нами лингвистом, провозгласившим систему языка как философскую и эстетическую сущность. Так ученик Реформатского подготовил нас к восприятию новой тогда теории своего учителя. Перефразируя слова Белинского, можно сказать, что Панов смог стать учителем для всех нас потому, что он был гениальным учеником. С благоговением он вспоминает Д. Н. Ушакова, А. М. Сухотина. Вспоминает, как он первокурсником в первый раз присутствовал на собрании лингвистического кружка, где А. М. Сухотин делал доклад о ритме прозы. С тех пор он берег эту тему, хотя никогда не говорил о ней. А. А. Реформатского он называл человеком эпохи Возрождения, имея в виду широту его интересов, глубокое знание и понимание искусства. Эти черты присущи в полной мере и самому Панову.
Своим старшим наставником и ангелом-хранителем Михаил Викторович считал Ивана Афанасьевича Василенко, много лет возглавлявшего кафедру русского языка в МГПИ. Это был большой, толстый, веселый и добрый человек. Он предоставил молодому преподавателю полную свободу действий. Нам казалось, что для молодых русистов, работавших тогда на кафедре, он был не начальником, а старшим другом. Такое же отношение уважительности было и у этих молодых преподавателей к студентам. И мы, студенты, в свою очередь, любили их и до сих пор никого не забыли. Это Марина Сергеевна Бунина, Светлана Георгиевна Капралова, Татьяна Николаевна Кандаурова, Ольга Александровна Князевская, Ирина Артемьевна Кудрявцева. Они были молоды, талантливы, доброжелательны и вносили струю задора и свободомыслия в нашу студенческую жизнь. Однажды на первом курсе мы в первый раз сбежали с какой-то лекции и крадучись спускались по лестнице. Вдруг перед нами выросла огромная фигура Василенко. Сердце замерло. А он, загородив проход, грозно прогремел: «Не всякий вас, как я, поймет!» С какой радостью выбежали мы тогда из института, впервые ощутив настоящую свободу студенческой жизни, как мы тогда ее понимали.
Взрослые понимали свободу по-своему: именно наш институт открыл свои двери для лингвистов – бывших политзаключенных и эмигрантов. Так, на кафедре русского языка стал работать В. Н. Сидоров. Поведение наших преподавателей определенно и явно свидетельствовало о том, что мерилом человеческой ценности является не политическая активность и партийная принадлежность, а ум, совесть и талант. Это была другая сторона свободы, и за нее многие ученые дорого заплатили. «Талантливым людям не прощают их таланта» – не раз слышала я от Панова эту горькую фразу, которую к себе он, конечно, не относил, но беда коснулась и его: Панов-ученый был лишен работы в академическом институте в самый яркий и плодотворный период своей деятельности.
Но, к счастью, Панов-лектор был сохранен для московской общественности. Заведующая кафедрой русского языка МГУ К. В. Горшкова, проявив опасную по тем временам гражданскую смелость, из года в год приглашала Михаила Викторовича читать спецкурсы. Вот на них-то и повалила вся Москва. Самая большая аудитория филфака переполнялась за четверть часа до начала лекции. Сидят на подоконниках, на ступеньках, стоят около доски и преподавательского стола – войти в аудиторию невозможно. Но вот к аудитории подходит Панов. Толпа раздвигается ровно настолько, чтобы пропустить одного человека, и снова смыкается. Лекция начинается – и проходит на одном дыхании.
Студентам университета уже привычно стало видеть на задних партах пожилых людей. Среди них и мы, его первые студенты, «пановские девочки», как нас называли. Но новые студенты смотрели на него такими же влюбленными глазами.
Казалось бы, можно ли слушать одну и ту же тему по орфоэпии четыре-пять раз? Оказывается, у Панова можно, потому что лекции всегда разные и новая лекция всегда интереснее предыдущей: в ней новые имена, новые факты из разных областей науки, культуры, искусства, неожиданные параллели.
Когда Михаил Викторович читал спецкурс по истории русского поэтического языка, каждая лекция становилась событием. Помнится, одна лекция пришлась на 31 декабря. Аудитория почти пустая – всего человек 20. Панов спокойно говорит: «Да, не зря бытует мнение, что Тютчев – поэт для немногих». И начинается таинство поэтических откровений. Выходим – опьяненные тютчевской поэзией и своеобразием его языка. Кто-то говорит: «Каждая лекция – это концерт». Его манера чтения стихов – не актерская, не поэтическая (вспоминается любимая тема Михаила Викторовича: противопоставление актерской и авторской манеры чтения стихов), но здесь она особенная – пановская: тихий голос, монотонная интонация, щемящая печаль в оглушении концовок строфы – и при этом отчетливая слышимость выразительных поэтических средств. А совсем недавно все узнали, что и сам он поэт. Вышел маленький сборник его стихов, написанный в течение большой жизни.
Однако никакой жизни не хватит для того, чтобы реализовать идеи, которые переполняют его лингвистическое сознание. Новые темы рождались из самой жизни. Как-то еще в институте, пробегая мимо него по лестнице, я весело поздоровалась: «Здрась, Мих. Виктч!» Он задержал меня и сказал, намеренно растягивая слова: «Галя, я все жду, когда вы мне скажете: „Здрав-ствуй-те, Михаил Викторович!“ – тогда я смогу поговорить с вами о газете». Это сопоставление разговорного «здрасьте» и размеренного «здравствуйте» было, возможно, началом работы над произносительными стилями. А когда, будучи заведующим сектором современного русского языка, он написал на заявлении сотрудницы об отпуске резолюцию «Надо дать» вместо «Не возражаю», чем вызвал недоумение бухгалтерии, он был поглощен новой тогда идеей функциональных стилей и показал на практике, что деловой стиль не терпит модификаций и состоит из штампов.